

 В сентябре 1936 года Михаил Михайлович Бахтин, который после окончания срока ссылки (официально он закончился в августе 1934 года. – В.Л.) все еще продолжал работать экономистом Кустанайского райпотребсоюза, неожиданно получил приглашение на преподавательскую работу в Мордовском педагогическом институте в Саранске. Михаил Михайлович откликнулся на это приглашение и уже в начале октября вместе с супругой Еленой Александровной прибыл к месту своей будущей работы.
В сентябре 1936 года Михаил Михайлович Бахтин, который после окончания срока ссылки (официально он закончился в августе 1934 года. – В.Л.) все еще продолжал работать экономистом Кустанайского райпотребсоюза, неожиданно получил приглашение на преподавательскую работу в Мордовском педагогическом институте в Саранске. Михаил Михайлович откликнулся на это приглашение и уже в начале октября вместе с супругой Еленой Александровной прибыл к месту своей будущей работы.
Вероятно, у читателя может возникнуть резонный вопрос: каким образом в Мордовском пединституте могли узнать о Бахтине? Ведь он не был в то время так известен, как сейчас, да к тому же находился от Саранска в нескольких тысячах километров. Думается, что уместен и такой вопрос: почему именно Бахтин, а не кто-либо другой был приглашен на работу в МГПИ, несмотря на то, что необходимого преподавателя можно было найти гораздо ближе. В действительности же ответ на эти вопросы достаточно прост.
Дело в том, что М.М.Бахтин являлся протеже известного в 1920–30-е годы литературоведа и писателя, профессора Ленинградского историко-филологического института Павла Николаевича Медведева, с которым он познакомился еще в начале 1920-х годов в Витебске. Именно П.Н.Медведев порекомендовал директору Мордовского пединститута А.Ф.Антонову привлечь к работе Бахтина, отметив его как талантливого педагога и ученого. Так кто же он, профессор П.Н.Медведев?ахтин, а не кто-либо другой был приглашен на работу в МГПИ, несмотря на то, что необходимого преподавателя можно было найти гораздо ближе. В действительности же ответ на эти вопросы достаточно прост.
Павел Николаевич Медведев родился в 1891 году в Петербурге. После окончания классической гимназии поступил на юридический факультет Петербургского университета, который успешно закончил в канун первой мировой войны. Он также успел прослушать
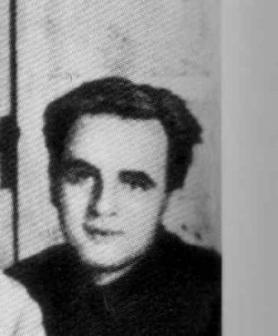
В 1920 году в Витебск переехал М.М. Бахтин, который до этого жил и работал в Невеле. Он оказался в этом белорусском городе неслучайно, так как незадолго до приезда Михаила Михайловича в Витебск перебрались его близкие друзья, члены так называемого «невельского кружка» – литературовед Л.В. Пумпянский, философ М.И. Каган, известная пианистка М.В. Юдина, литературный критик В.Н. Волошинов и некоторые другие. Появление в Витебске столь внушительного интеллектуального контингента не прошло незаметно для небольшого города. Все члены кружка принимали активное участие в культурной и общественной жизни Витебска: выступали с публичными лекциями, сотрудничали с газетами и журналами, устраивали различные дискуссии и т.п. Поэтому неудивительно, что скоро к ним присоединился и П.Н. Медведев. Так произошло его знакомство с М.М. Бахтиным. Будучи одним из руководителей города, Павел Николаевич оказывал членам кружка всяческую помощь и поддержку. В частности, он помог устроиться на работу в Витебский пединститут Бахтину, который читал там всеобщую литературу.
Постепенно кружок стал распадаться. М.И.Каган уехал в Орел преподавать «Введение в философию» в только что открывшемся университете; Л.В.Пумпянский, М.В.Юдина и В.Н.Волошинов – в Петроград. В 1922 году в Петроград также уехал и П.Н.Медведев. Таким образом, в Витебске остался лишь М.М.Бахтин, который к тому времени уже был женат (в июле 1921 года. – В.Л.) на Елене Александровне Околович.
В Петрограде Медведев по-прежнему энергично занимался педагогической и культурно-просветительской деятельностью. Он работал во Внешкольном музее, в литературно-художественном отделе Госиздата, читал лекции в различных учебных заведениях и воинских частях.
В 1924 году в Ленинград приехали Бахтины, где, кроме П.Н.Медведева, уже обосновались Пумпянский, Юдина и Волошинов, то есть все те, кто был с ним рядом в Невеле и Витебске. Вновь заработал кружок, и опять друзья засиживались до поздней ночи, обсуждая проблемы религии, литературы, философии и культуры. В Ленинграде М.М.Бахтин долгое время не мог найти подходящей работы. Во-первых, найти работу по профилю было крайне трудно, а во-вторых, Михаил Михайлович в это время был серьезно болен. Периодически обострялось хроническое заболевание – множественный остеомиелит, которым он страдал с раннего детства. Поэтому Бахтины жили случайными заработками. Чем могли, помогали и друзья, которые, к счастью, имели возможность заработать себе на пропитание. Так, М.В.Юдина преподавала в консерватории, В.Н.Волошинов читал лекции по истории музыки в учебных заведениях, а также публиковал статьи и книжные обозрения на музыкальные темы. Имел работу и П.Н.Медведев. В 1927 году он был избран доцентом Педагогического института имени А.И.Герцена, где читал курс русской и советской литературы ХХ века. Следует заметить, что безработным был не только Бахтин, но и Л.В.Пумпянский, который после увольнения его из Тенишевского училища не имел постоянного места работы и жил тем, что читал лекции в библиотеках и в различных кружках.
Однако М.М.Бахтин не был «не у дел». По словам американских исследователей, авторов первой научной биографии Бахтина К.Кларк и М.Холквиста: «Ленинградский период был для Бахтина самым продуктивным, в смысле публикаций, вероятно, потому, что он не имел никакой другой работы. К тому же здесь у него были свои источники, стимулировавшие его интеллект, а также более свободный доступ к необходимым книгам, нежели в Невеле и Витебске». Забегая вперед, отметим, что именно в этот период была написана и вышла в свет его книга о Достоевском, ставшая впоследствии всемирно известной.
В конце 1928 – начале 1929 года в Ленинграде были проведены массовые аресты. Искали «врагов народа». Таким, как ни странно, оказался и М.М.Бахтин, к тому времени инвалид труда, практически не выходивший из дома. Ему инкриминировалось «участие в антисоветской организации». Сейчас уже доподлинно известно, что этой «антисоветской организацией» было религиозно-философское общество «Воскресение». Известно также, что членами этого общества были Пумпянский и Юдина, о них говорится в воспоминаниях Н.П.Анцифирова, одного из руководителей «Воскресения». Что же касается Бахтина, то ни в воспоминаниях, ни в примечаниях к ним о Михаиле Михайловиче не говорится ни слова. Вероятно, он стал жертвой доноса. Но как бы там ни было, Михаилу Михайловичу, в отличие от Пумпянского и Юдиной, избежать ареста, следствия и суда – не удалось. Пять лет концлагерей – таков был первоначальный приговор, который ввиду тяжелейшей болезни, а также энергичных действий его супруги и друзей, был изменен на пять лет ссылки в Казахстан. Так М.М.Бахтин оказался в Кустанае.
А что же Медведев? Он продолжал подниматься по служебной лестнице. В 1933 году Павел Николаевич стал профессором Ленинградского историко-филологического института (ЛИФЛИ). Кроме того, преподавал всеобщую и русскую литературу в Военно-политической академии им. Толмачева, руководил семинаром для аспирантов в Государственной академии искусствознания. В эти же годы он начал работу над первым двухтомным вузовским учебником по истории русской и советской литературы, начиная с конца XIX века. Медведев также вел активную литературно-общественную работу. Его неоднократно избирали членом Правления всероссийского Союза писателей. Он был одним из первых советских литературоведов, посвятивший себя изучению творчества Александра Блока.
На вопрос: как Бахтин оказался в 1936 году в Саранске, мы уже ответили в самом начале нашего повествования – по рекомендации профессора П.Н.Медведева. Но из первого логично вытекает следующий вопрос: а какая связь существовала между Мордовским пединститутом и ленинградским профессором? Постараемся на него ответить.
В начале августа 1936 года М.М.Бахтин и его супруга Елена Александровна, находясь в отпуске, побывали в Ленинграде и Москве. Об этом писал в одном из своих писем М.И.Каган: «5 августа вечером совсем неожиданно пришли к нам М.М.Бахтин и Елена Александровна. На время отпуска они поехали сначала в Ленинград, а затем в Москву». Вряд ли приходится сомневаться, что в Ленинграде Бахтин встречался с П.Н.Медведевым. В этом не сомневаются и американские исследователи Кларк и Холквист. Вот что они пишут: «В 1936 году Бахтину было дано разрешение взять двухмесячный летний отпуск и провести его в Ленинграде. Находясь там, он просил Медведева помочь подыскать ему работу в каком-нибудь высшем учебном заведении». Вероятно, в разговоре с Медведевым Михаил Михайлович впервые услышал о Мордовском пединституте, так как Павел Николаевич вскоре собирался выехать в Саранск, чтобы прочитать в местном институте курс лекций по советской литературе. А приглашение приехать в Саранск он получил еще в 1935 году. Об этом свидетельствует письмо Георгия Сергеевича Петрова, бывшего декана литературного факультета МГПИ (1935–1937 гг.), адресованное заместителю директора по учебной части М.Д.Смирнову. Зимой 1935 года Смирнов предложил Петрову переехать из Ленинграда в Саранск, чтобы занять вакантную должность декана литфака.
В письме, датированном 10 августа, Петров сообщал зам. директора об условиях, на которых он согласен переехать в Саранск. Кроме того, в нем содержится крайне важная для нас информация. Приведем несколько фрагментов этого письма. Итак, фрагмент первый: «Теперь о наших делах в Петрограде. Сразу же после приезда (вероятно, из Саранска. – В.Л.) я занялся оформлением договора с Медведевым. Первые шаги оказались удачными». Второй фрагмент: «М.Д. (имеется в виду Михаил Данилович Смирнов. – В.Л.), нажми, пожалуйста, чтобы к моему приезду отремонтировали квартиру Медведева…». Но в 1935 году П.Н.Медведев в Саранск так и не приехал. Причина нам, к сожалению, неизвестна, но, возможно, просто не позволили дела. Он оказался в столице Мордовии лишь спустя год.
Итак, в начале сентября 1936 года П.Н.Медведев приехал в Саранск. Вероятно, в первые же дни своего пребывания в МГПИ он порекомендовал директору пединститута А.Ф.Антонову пригласить на работу из Кустаная М.М.Бахтина, что последний и не замедлил сделать.
Спустя некоторое время Михаил Михайлович получил письмо из Саранска от директора МГПИ, датированное 9 сентября 1936 года. Антонов писал: «Уважаемый тов. Бахтин! По рекомендации профессора Павла Николаевича Медведева приглашаем Вас на преподавательскую работу в Мордовском пединституте <...> На первое время мы можем предложить Вам положение доцента, гарантированный заработок до 600 рублей, квартиру и подъемные для переезда из Кустаная в Саранск. Ввиду острой нужды в преподавателях прошу не задерживать Ваш ответ». Необходимо также отметить, что, кроме письма Антонова, Бахтин получил еще одно – от П.Н.Медведева, о котором он упоминает в беседе с В.Д.Дувакиным: «Я получил письмо от Павла Николаевича Медведева. Медведев побывал в Саранске. Он попросту ездил туда халтурить. Там был большой пединститут, в Саранске, там деканом был его ученик (имеется в виду Г.С.Петров. – В.Л.).… Там ему понравилось. Понравилось в том смысле, что там спокойно, тихо, все хорошо в то время. И он посоветовал мне поехать в Саранск. Там, в институте, он сказал, что есть вот такой Бахтин». Вероятно, именно письмо П.Н.Медведева окончательно утвердило Михаила Михайловича в своем решении принять предложение директора МГПИ и поехать в Саранск.
Пока М.М.Бахтин готовился к отъезду в Саранск, П.Н.Медведев в течение двух недель активно занимался здесь лекционной деятельностью. Вот что писала по этому поводу главная республиканская газета «Красная Мордовия» 27 сентября 1936 года: «В Мордовском пед-
институте состоялось совещание преподавателей и студенческих организаций, посвященное смычке работников института с ленинградскими учеными. На совещании присутствовал один из виднейших современных советских литературоведов – профессор П.Н.Медведев.
Профессор Медведев за свое двухнедельное пребывание в Саранске прочитал для студентов-выпускников 30-часовой курс лекций о советской литературе. Для партийно-комсомольского актива, преподавателей и учащихся Саранска проф. Медведев сделал ряд больших докладов о Пушкине, Горьком, Маяковском и Шолохове.
Совещание просило тов. Медведева взять шефство над институтом. Проф. Медведев дал свое согласие и обещал оказывать институту всяческую помощь». Профессор П.Н.Медведев даже был включен в план научно-исследовательской работы МГПИ на 1937 год. Вот его темы: «Русская литература ХХ века» и «Из литературного наследия А.Блока». Все, кто знаком с работами П.Н.Медведева, знают, что он был одним из первых крупных исследователей творчества поэта.
Вскоре после отъезда из Саранска Медведева, сюда приехал Бахтин. К сожалению, друзьям не суждено было больше встретиться. В 1938 году Медведев был арестован и приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. В 1956 году Павел Николаевич был посмертно реабилитирован.